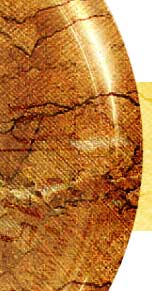* * *
Это тетрис, плодоносный сад.
Ты родился – яблоки висят.
Но как только ты родился – впредь
Будет все под небом тяжелеть.
Будут наливаться облака,
Яблок венценосные бока,
Впадины в земной коре, тела,
Рукописи в ящике стола.
Ветки в небе вскоре затрещат.
И начнется тетрис. Камнепад.
Яблоки, убитые в бою,
Падают на родину мою.
Слева, справа падают тела
Яблок. Не поймаешь в подола.
Мы теряем их – за слоем слой.
Под ногами – тает перегной.
Бабка Мотря, палкою стуча,
Говорила: – Яблоки не рви.
Поднимай лежалые, хоча
И умершим хочется любви.
Налетала стая воронья,
Склевывала с веток урожай.
Ты до Спаса яблоко-меня,
Господи, срывать не разрешай.
* * *
заходили в город пешком озирались по сторонам
голосил петушком сумасшедший пастор на сером камне
изучали нас из подвалов махали с балконов нам
как из тайных порталов зыркали из руин пекарни
пыль стояла в воздухе гребнем лилась волной
грохотали разламываясь останки зданий
если это не чувство вины то что это ангел мой
крутится в мыслях сепией оправданий
маркитант гонит стадо коров на расстрел
маркитантова баба несет живот как уже младенца
весь фундамент Рейхстага расписан кто не успел
тот опоздал но зато трофейные юбки туфельки полотенца…
в конце войны как на конце иглы
смерть сходит на нет а теперь услад бы
заходили в город заглядывали за углы
занимали соборы госпитали усадьбы
* * *
В овражистом лесу, где их в три дня
Лишали плевы, мудрости и страха,
Она решила с помощью меня
Стать новою невестою Аллаха.
Я встала до будильника вчера.
Старомосковским солнцем грелся город.
Взбурлил кофейник, тихое "пора”
Шепнула сыну: – Опоздаем, голубь…
Она уже лежала на полу
В намазе, тут, на станции конечной.
Она уже шептала: – Подпалю.
И трогала напоясник картечный.
Сын злился на девчонок: от битья
Сегодня не уйти им. И дорогой
До самой школы поучала я:
– Хоть волком вой, а девочек не трогай.
Она уже зашла тогда в вагон.
Ей, может, даже место уступили.
Напала дрема. Ей приснился сон:
Ее никах с Аллахом отменили.
Я отвела дитя и шла в метро,
Слова мои в нем доброе пробудят:
– Ты их не бей, а поступи хитро,
Скажи: "Никто любить тебя не будет”!
* * *
Помнишь, душа моя ныла, словно свирель,
Город весь дребезжал, как дырявый бубен.
Помнишь, как нашептывал мне: – Не верь.
Не бойся, тебе ничего за это не будет.
Вера – соломинка. Вера – легко горит,
Стоит лишь поднести непогасший пепел,
Пепел твоих надежд и твоих обид.
Так и взлетит на небо огненный петел.
И ничего не будет, это ты прав.
Только телесный абрис, парное порно.
Тело истлеет, распространяя трав
Запах осенний, дымный, першащий горло.
Голос останется в хрустких столпах бобин,
Письма в почтовом ящике электронном,
Что-то еще, что ты обо мне любил,
Но не смирит тебя с остальным уроном.
Нет, ничего не будет, не верь и ты
В то, что за гранью дышится посвежее,
В то, что кто-то смотрит из пустоты
Пристально так, что взбухли рубцы на шее.
И не тебе от страха дрожать в ночи,
В тысячный раз сомневаясь, пусты ли кущи, –
Мне, уходящей, страшно, что хоть кричи,
Хоть за соломинку эту цепляйся пуще.
* * *
Любовь Патрикевна моя спит в ледяной избушке.
Сама ее и сварганила от проруби до отдушки.
Ей никого не нужно, она сама по себе.
Живи хоть в небоскребе, хоть в лубяной избе.
Все вокруг прозрачно. Греет ее мороз.
Там изразцы хрустальные и витражи ветровые.
Для того, чтоб любить, не нужен никто всерьез,
Ни мертвые, ни живые.
Поскуливает, свернувшись в замкнутое кольцо.
Кого позовешь на ледяное крыльцо?
Кого приласкаешь вмерзшим в ледышку брюхом?
Нечего пойти рассказать сеструхам.
Любовь Патрикевна спит, подтаивает снежок.
Она не идет войной занимать чужой бережок.
Лежит на талом снегу, как глухая тетеря.
В ней почти ничего не осталось от зверя.
КОЛЫБЕЛЬНАЯ
На конюшне страшно и темно,
Лошади, фырча, глядят в решетку.
Глаз коня, как круглое окно.
Спи, мой мальчик, нужно жить в охотку.
Вкруг левады гниль и нищета.
Вся левада топкая – с ладошку.
Пять собак и два больных кота.
Спи, мой сын, вживайся понемножку.
Это наша родина, разрез.
От соседки пук чертополоха.
Если очень плохо, можно в лес.
Спи, сынок, такая уж эпоха.
Мокрым сеном тянет от тюков.
Лошади – тупые, – гнет хозяйка.
Ад животных именно таков.
Спи, мы в этой жизни – люди, зайка.
Хоть и преем в этих же местах.
Санки пятый год стоят на крыше.
Во дворе заблеванный верстак.
Спи, любимый, счастье где-то выше.
Счастье, словно всадник на коне,
Ходит кругом над кипящим лугом,
Где-то тоже здесь, но в вышине.
Спи на тряском воздухе упругом.
Все пришли в ночлежку на краю:
И овечка, и верблюд, и пони.
Спи, ребенок, баюшки-баю,
Сухо и тепло у нас в загоне.
ЧАСЫ
Из Берлина в товарном вагоне едет багаж.
Предок наш не промах, когда входит в раж.
Сорок седьмой год. Наш паровоз вперёд
Летит, документы на груз в порядке.
Всё куплено под расчет. А какой урод
Не продаст комод, когда фатерлянд в упадке.
В смысле, выбор падает на краюху и молоко,
Если выбирать между этими вот часами
И краюхой хлеба. Супница-рококо,
Две кровати, швейная "Зингер”, лодка под парусами,
Автомобиль "Олимпия”, мотоцикл БМВ,
Пианино с подсвечниками, кто на нем сыграет?
Стол письменный, шубка с дырочкой в рукаве,
Крохотной дырочкой, о которой никто не знает.
Едет товарный вагон, водит состав хоровод.
Вагончик тянут за руки влево-вправо.
Каждый час методично бьет
Что-то внутри часов, мрачно и величаво.
Напольные, с инкрустацией на боках,
Со стеклом, отливающим перламутром, в дверце,
Из семьи конторщика о семи сынках,
Его помнящие, выменянные на говяжье сердце.
Приступы у часов каждые полчаса,
Каждые двадцать минут, каждые десять.
Боже, прости меня за непрекращающийся
Этот бой часов, этот вой часов сквозь города и веси.
Павшей империи сколок, изыск иных кровей,
Нынче ты лишь трофей маркитанта-майора.
Чей народ несчастней, тот и правей.
В этом ты убедишься скоро.
* * *
Матерщинница, поздняя мать, за кавказца замуж.
Получился солнечный зайчик. Скачет, как мячик. Да уж!
Доходная торговка в теле.
Да, кто она в самом деле?
А она — разговорились — вдова чернобыльца, почернелая, как омела.
Пара выкидышей. Наконец сумела.
Этого мужа не зазовут повесткой, не сбросят в реактор. После работы
Он приходит целым, играет в нарды с сыном, учит его давать сдачу
На вопрос: "Ну, и кто ты?” —
И твердить себе: "Не заплачу”.
И ведь не плачет. Всё у них по-бакински. Режим и блюда.
А ей и не надо блуда.
Москвичка в десятом колене, она трясется над этим смуглявым чадом,
Над невозможным чудом, почти еще непочатым!
Над улыбчивым этим галчонком, лечит его глаза, и вот отит, опрелость…
— Ну, скажи на милость, что ему дома-то не сиделось? —
Бабоньки охают про чернобыльца. — Да чего ж не сбёг-то?
— Ну, а Бог-то? —
Отвечает она вопросом, потом материт страну такую-сякую. —
Нет, я и сама предлагала ему отмазаться, не лезть под раздачу. —
И она начинает злиться: — Уперся — и ни в какую!
Долг перед родиной! Долг перед родиной! Не могу иначе!
Firenze
Если длинный дом выстроен вдоль моста,
Все, что в воду падает из окна, уплывает вглубь.
Это глушь слепящая, запах воды, места,
Где и ты, и всякий местный по-своему глуп
И умен по-своему. Не торопись судить.
Говорит мой друг, что ангелы под мостом
Словно карпы плавают, хочешь от них испить —
Опусти ведро в окно и молись о том.
Эти ангелы отпускают по кружке в день,
Эти ангелы исполняют по тайне в год.
А другой и свесится над водой, и — дзэнь —
Упадет ведро, и не ангел, а карп плывет.
Вот такой там мост над рекой, такие там шутники.
По утрам сливают в воду лишнее молоко,
И бела река, словно ангелы — плоть реки,
Словно всем и всюду весело и легко.
ДЕРЕВО
Пеппи Длинныйчулок сидит в морщинистом ветхом саду.
Перед ней дырявое дерево. Она кладет в него ерунду,
А дети потом находят: сладкую газировку, булки, чулки.
На террасе лошадь. Точат ее червяки.
Лошадь давно подохла. Пеппи выросла и сидит в кустах.
Все думают, что она умерла, что лошадь съела ее, но страх
Не мешает им приходить и искать, что там выросло: хлеб и вода.
А при жизни ее было еще страшней приходить сюда.
Сумасшедшая Пеппи смотрит на них из травы, космы ее торчат,
Как прошлогоднее сено, кожа ее смугла.
Томми и Аника воспитывают внучат,
Но вечность не собирались у праздничного стола.
Никто ее не замечает, принято думать, что ей каюк.
Каждый верит, что дупло плодоносит, а птицы летят на юг.
Каждый уверен, что родился для радости и умрет.
А Пеппи всех по-прежнему дурит, но никогда не врет.
Дерево плодоносно, она совсем ни при чем.
По ночам она пробирается в дом и спит, сворачиваясь калачом,
Думает поочередно о каждом, качая бантиками на колтунах,
Гладит окостенелую обезьяну в курточке и штанах.
Ей бы прожить февраль, дальше она сама
Выйдет и сдаст себя, станет бессмертной, что ли.
Засыпая, шепчет: сколько у них ума!
Неужели им раздавали в школе?
По утрам она дышит на зеркальце, проверяя, жива ль.
Длинный чулок натягивает, и как раз до ляжки.
В сущности, говорит себе, ни к чему печаль,
Шарит в дереве, достает и сосёт из фляжки.
|